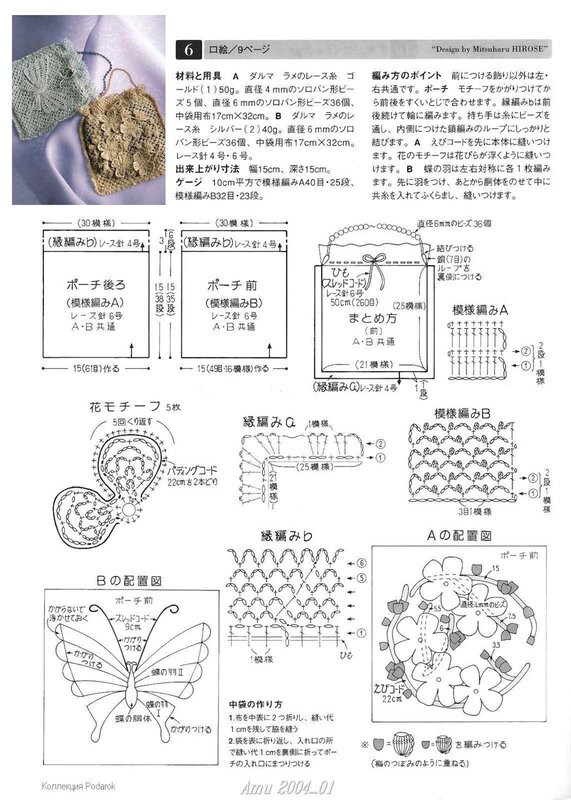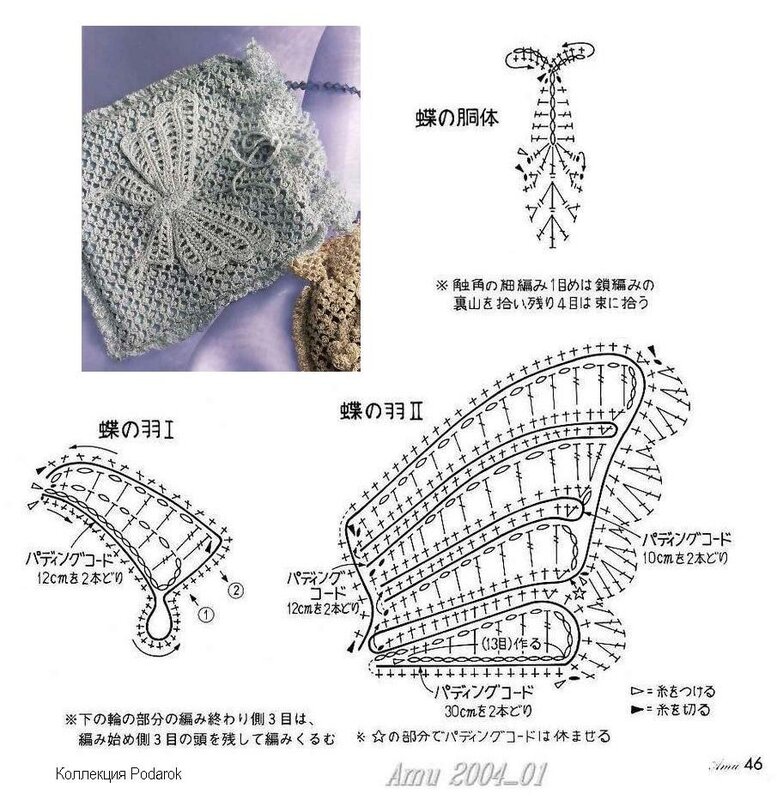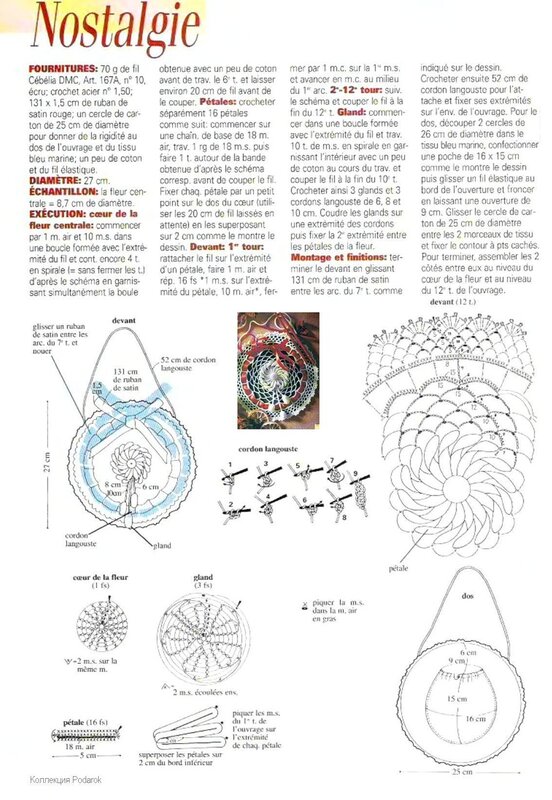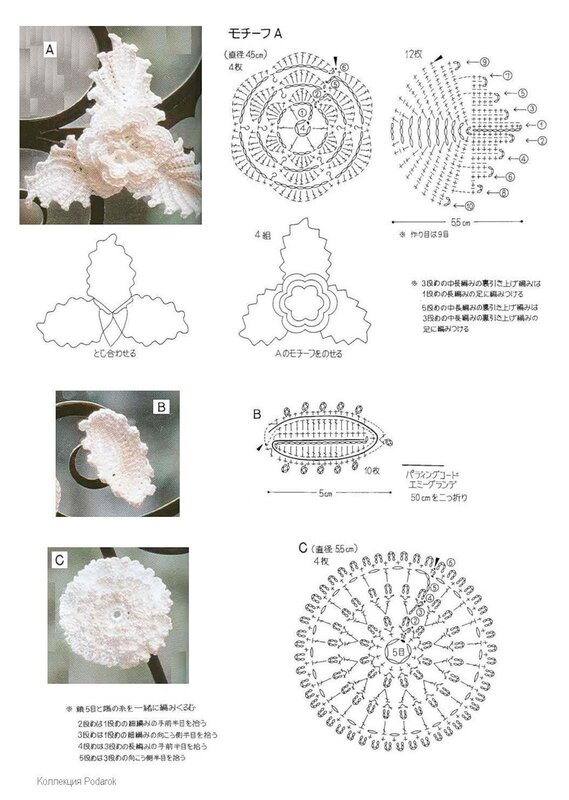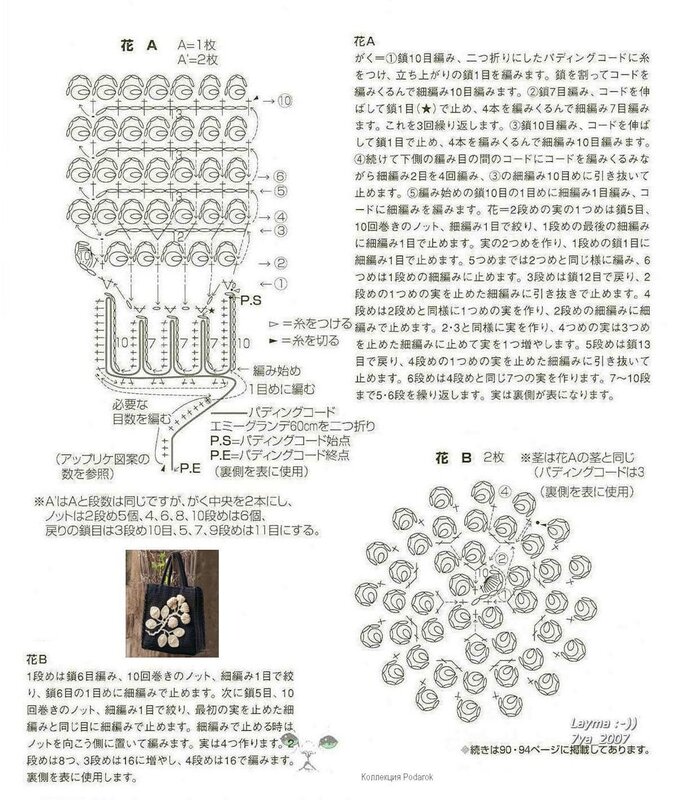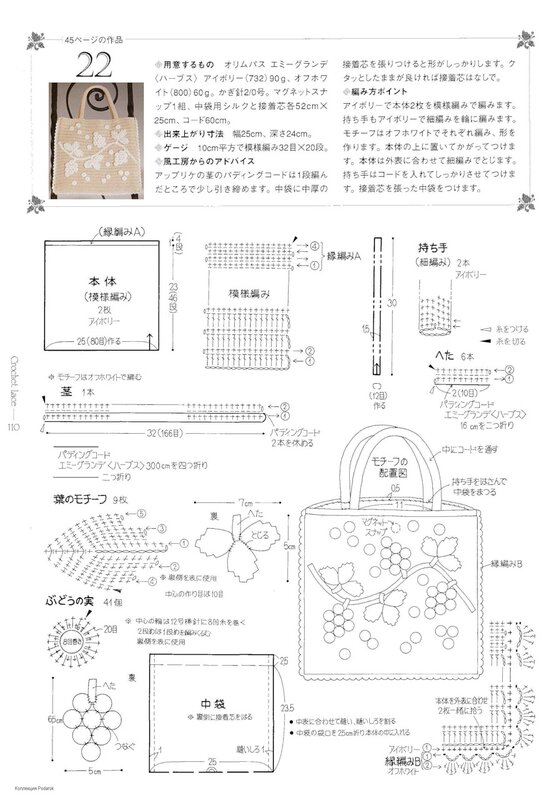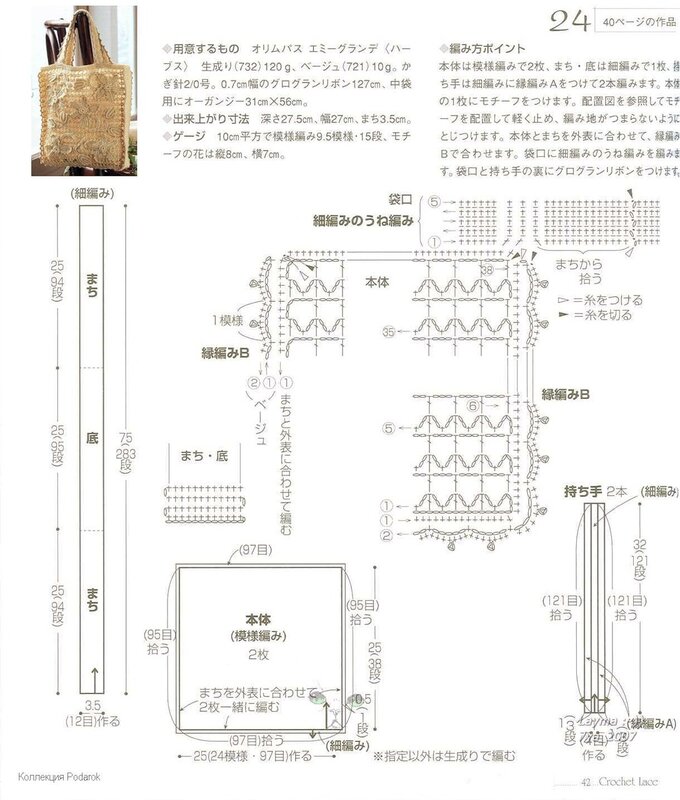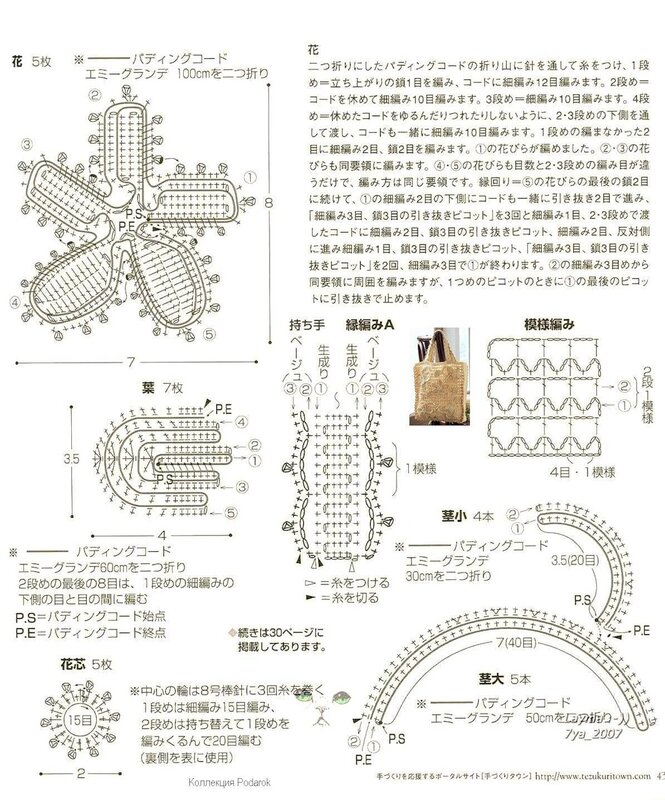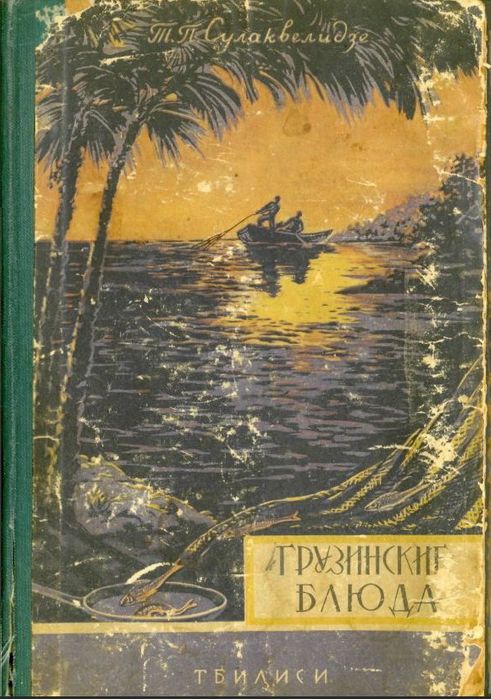Жизнь слишком коротка, чтобы быть незначительной
18.10.2011 в 18:00
Пишет Джейк Чемберз:Вольное поселение
Мой дедушка сумасшедший.
Он живет в поселении для сумасшедших,
Которое называется вольным.
Семь километров от станции Миллерово
Мы с мамой едем на автобусе.
читать дальшеА потом идем – сначала клеверным лугом,
Свекольным сахарным полем,
Пробираемся через тёрн
(от вкуса его чернильных плодов
У меня сводит скулы,
А от колючих цепких ветвей
Все руки будут расцарапаны),
Долго идём по нескончаемому
Вишнёвому саду: грачи с клювами,
Испачканными в красном, клейком,
Будто в крови, вишнёвом соке,
Пьяно терзают вишневые деревья, -
Ягодами усыпана земля,
Сочится, как свежая кровавая рана.
Я залезаю на дерево и тут же пачкаю
Платье в алом (потом на обратной дороге
В автобусе одна женщина,
Пристально глядя мне в глаза,
Скажет интимно и загадочно:
«Девочка, а у тебя начались майские праздники…», -
И укажет на красное пятно сзади
на подоле моего платья
Я не понимая, о чём она говорит,
почему-то страшно краснею…).
И вот – подсолнухи, их целое поле –
Круглолицых людей с жёлтыми волосами,
А дальше – пшеница: мы с мамой
заходим в нее, как в воду, -
Маме она по пояс, мне по шею,
Словно плывем по пшеничной
Реке…
Выплываем к белёным длинным хаткам –
Это корпуса психбольницы. В хатах –
Палаты для больных.
Мы садимся за деревянный стол
под шелковицей. Мама уходит.
Я остаюсь одна. Где-то надо мной, в кроне,
Запутавшись, звенит, как бензопила, оса.
Умолкает. Чернильной кляксой сверху
на стол падает ягода шелковицы. Тишина.
Вдруг из зарослей кустов выбегает
Огромный, абсолютно голый парень.
Увидев меня, останавливается.
Мы смотрим друг на друга, как звери в лесу.
Я впервые вижу обнаженного мужчину.
Он сложён, как бог.
Глаза мои скатываются вниз, туда,
Где у него между ног висит жгучая, стыдная тайна,
запретный плод. Мы одни, как Адам и Ева…
Услышав голоса, он срывается с места,
Исчезает в кустах. Но с тех пор
он будет приходить в мои сны,
А через много лет в музее изобразительных
Искусств им. Пушкина я увижу его –
Он будет стоять там – голый, огромный –
Под именем Аполлона…
Возвращается мать с пожилым
коротко стриженным арестантом,
одетым в темно-синюю байковую пижаму,
с пришитым номером 33
над верхним карманом куртки.
Это мой деда Савва.
Он берет пачку махорки,
Которую мы привезли ему,
Из газеты крутит козью ножку, закуривает,
Блаженно щурясь на солнце.
Сладкий дым самосада остается в моей памяти
На всю жизнь, как запах счастья и родственного единения:
Мой дед, моя мать и я – мы семья.
Мы вместе и мы счастливы.
Потом дед ест яйца, сваренные мамой вкрутую,
Лук, хлеб, сало… По его лицу не скажешь,
Что он сумасшедший, просто как будто
Мы навещаем его в больнице,
Простой больнице, где он лежит
С больным животом… Или горлом…
Только он упорно называет меня Маринкой, -
Так зовут его младшую дочь, которой во время войны
Было, как и мне сейчас – двенадцать…
Мне это не нравится, я поправляю его:
«Я не Маринка, - упрямлюсь я,
ведь мы хохлы, а хохлы все упрямые, -
меня зовут Света!..»
Натыкаюсь на его неподвижный
Ласковый взгляд, - Маринка, -
Говорит он мне – Маринка…
«Папа, - уговаривает его моя мама, -
Это дочка моя, Светлана…»
Где-то хлопает дверь.
Дед оглядывается. Поворачивается ко мне
И вдруг кричит мне: «Маринка! Ложись! Танки!»
Я кручу головой: где танки?
До самого горизонта стоят подсолнухи.
«Немцы! - показывает на подсолнухи дед, -
Ложись!»
Он скидывает меня с лавки на землю,
Прикрывает меня собой и страшно кричит:
«Немцы! Нас окружают!»
Я вижу его белые безумные глаза и верю,
Что немцы уже рядом, что мы окружены,
И кричу тоже…
Прибегает врач, санитары, курносая Нюрка,
Дедова гражданская жена, тоже сумасшедшая
(через год, когда дед умрет, она обмоет его,
а другие больные отнесут на руках его гроб в грузовик,
который повезет тело деда в совхоз «Красная заря»,
где его и похоронят родные).
Санитары скручивают деда и тащат его в белёную хатку…
Он оглядывается на меня: «Маринка! Беги!» -
Кричит он мне хрипло.
И я бегу. Бегу по пшенице, подсолнухам,
через вишневый сад, терновник, свекольное поле…
Мама догоняет меня на лугу. Рассказывает,
Что во время войны дед партизанил,
попал в плен к немцам, его расстреливали, чудом выжил…
А после войны кто-то из совхозных сторожей
Пошутил, выстрелил из ружья, - и дед сошел с ума:
решил, что вернулись немцы…
Время для него остановилось:
он воюет с немцами до сих пор.
Мы трясемся в автобусе. Смотрю в окно автобуса.
Всё также светит солнце.
Всё также стоят до самого горизонта подсолнухи.
Но время изменилось.
Я вижу, как по полю идут, -
подминая под себя белые тела подсолнухов,
накручивая их на гусеницы, вдавливая в землю
детские желтоволосые головы, - немецкие танки…
Я даже привстаю со своего места,
я понимаю, что не могу этого видеть, -
ведь я не сумасшедшая, - но вижу, вижу…
Чужая женщина, сидящая сзади, заглядывает мне в лицо,
И пристально глядя мне в глаза, интимно и загадочно
Говорит мне, что у меня начались какие-то майские праздники,
Показывает на алое пятно на подоле моего платья.
Я страшно краснею.
Прихожу в себя.
Остываю. Снова гляжу в окно. Танков нет.
Понимаю: отныне я, как мой деда Савва,
могу видеть сквозь время.
(с) Светлана Василенко
URL записиМой дедушка сумасшедший.
Он живет в поселении для сумасшедших,
Которое называется вольным.
Семь километров от станции Миллерово
Мы с мамой едем на автобусе.
читать дальшеА потом идем – сначала клеверным лугом,
Свекольным сахарным полем,
Пробираемся через тёрн
(от вкуса его чернильных плодов
У меня сводит скулы,
А от колючих цепких ветвей
Все руки будут расцарапаны),
Долго идём по нескончаемому
Вишнёвому саду: грачи с клювами,
Испачканными в красном, клейком,
Будто в крови, вишнёвом соке,
Пьяно терзают вишневые деревья, -
Ягодами усыпана земля,
Сочится, как свежая кровавая рана.
Я залезаю на дерево и тут же пачкаю
Платье в алом (потом на обратной дороге
В автобусе одна женщина,
Пристально глядя мне в глаза,
Скажет интимно и загадочно:
«Девочка, а у тебя начались майские праздники…», -
И укажет на красное пятно сзади
на подоле моего платья
Я не понимая, о чём она говорит,
почему-то страшно краснею…).
И вот – подсолнухи, их целое поле –
Круглолицых людей с жёлтыми волосами,
А дальше – пшеница: мы с мамой
заходим в нее, как в воду, -
Маме она по пояс, мне по шею,
Словно плывем по пшеничной
Реке…
Выплываем к белёным длинным хаткам –
Это корпуса психбольницы. В хатах –
Палаты для больных.
Мы садимся за деревянный стол
под шелковицей. Мама уходит.
Я остаюсь одна. Где-то надо мной, в кроне,
Запутавшись, звенит, как бензопила, оса.
Умолкает. Чернильной кляксой сверху
на стол падает ягода шелковицы. Тишина.
Вдруг из зарослей кустов выбегает
Огромный, абсолютно голый парень.
Увидев меня, останавливается.
Мы смотрим друг на друга, как звери в лесу.
Я впервые вижу обнаженного мужчину.
Он сложён, как бог.
Глаза мои скатываются вниз, туда,
Где у него между ног висит жгучая, стыдная тайна,
запретный плод. Мы одни, как Адам и Ева…
Услышав голоса, он срывается с места,
Исчезает в кустах. Но с тех пор
он будет приходить в мои сны,
А через много лет в музее изобразительных
Искусств им. Пушкина я увижу его –
Он будет стоять там – голый, огромный –
Под именем Аполлона…
Возвращается мать с пожилым
коротко стриженным арестантом,
одетым в темно-синюю байковую пижаму,
с пришитым номером 33
над верхним карманом куртки.
Это мой деда Савва.
Он берет пачку махорки,
Которую мы привезли ему,
Из газеты крутит козью ножку, закуривает,
Блаженно щурясь на солнце.
Сладкий дым самосада остается в моей памяти
На всю жизнь, как запах счастья и родственного единения:
Мой дед, моя мать и я – мы семья.
Мы вместе и мы счастливы.
Потом дед ест яйца, сваренные мамой вкрутую,
Лук, хлеб, сало… По его лицу не скажешь,
Что он сумасшедший, просто как будто
Мы навещаем его в больнице,
Простой больнице, где он лежит
С больным животом… Или горлом…
Только он упорно называет меня Маринкой, -
Так зовут его младшую дочь, которой во время войны
Было, как и мне сейчас – двенадцать…
Мне это не нравится, я поправляю его:
«Я не Маринка, - упрямлюсь я,
ведь мы хохлы, а хохлы все упрямые, -
меня зовут Света!..»
Натыкаюсь на его неподвижный
Ласковый взгляд, - Маринка, -
Говорит он мне – Маринка…
«Папа, - уговаривает его моя мама, -
Это дочка моя, Светлана…»
Где-то хлопает дверь.
Дед оглядывается. Поворачивается ко мне
И вдруг кричит мне: «Маринка! Ложись! Танки!»
Я кручу головой: где танки?
До самого горизонта стоят подсолнухи.
«Немцы! - показывает на подсолнухи дед, -
Ложись!»
Он скидывает меня с лавки на землю,
Прикрывает меня собой и страшно кричит:
«Немцы! Нас окружают!»
Я вижу его белые безумные глаза и верю,
Что немцы уже рядом, что мы окружены,
И кричу тоже…
Прибегает врач, санитары, курносая Нюрка,
Дедова гражданская жена, тоже сумасшедшая
(через год, когда дед умрет, она обмоет его,
а другие больные отнесут на руках его гроб в грузовик,
который повезет тело деда в совхоз «Красная заря»,
где его и похоронят родные).
Санитары скручивают деда и тащат его в белёную хатку…
Он оглядывается на меня: «Маринка! Беги!» -
Кричит он мне хрипло.
И я бегу. Бегу по пшенице, подсолнухам,
через вишневый сад, терновник, свекольное поле…
Мама догоняет меня на лугу. Рассказывает,
Что во время войны дед партизанил,
попал в плен к немцам, его расстреливали, чудом выжил…
А после войны кто-то из совхозных сторожей
Пошутил, выстрелил из ружья, - и дед сошел с ума:
решил, что вернулись немцы…
Время для него остановилось:
он воюет с немцами до сих пор.
Мы трясемся в автобусе. Смотрю в окно автобуса.
Всё также светит солнце.
Всё также стоят до самого горизонта подсолнухи.
Но время изменилось.
Я вижу, как по полю идут, -
подминая под себя белые тела подсолнухов,
накручивая их на гусеницы, вдавливая в землю
детские желтоволосые головы, - немецкие танки…
Я даже привстаю со своего места,
я понимаю, что не могу этого видеть, -
ведь я не сумасшедшая, - но вижу, вижу…
Чужая женщина, сидящая сзади, заглядывает мне в лицо,
И пристально глядя мне в глаза, интимно и загадочно
Говорит мне, что у меня начались какие-то майские праздники,
Показывает на алое пятно на подоле моего платья.
Я страшно краснею.
Прихожу в себя.
Остываю. Снова гляжу в окно. Танков нет.
Понимаю: отныне я, как мой деда Савва,
могу видеть сквозь время.
(с) Светлана Василенко
@темы: Вірш